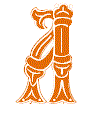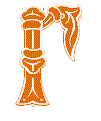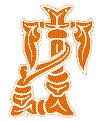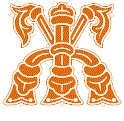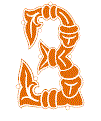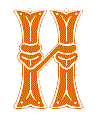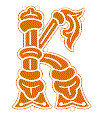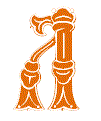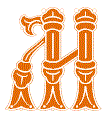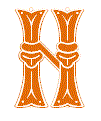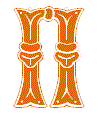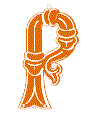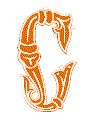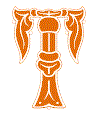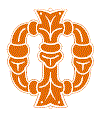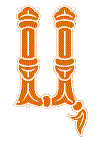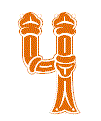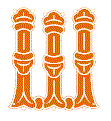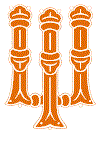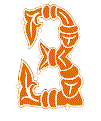ЛЕВ
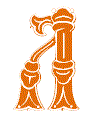 ЛЕВ, в мифологиях и фольклоре многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии символ высшей божественной силы, мощи, власти и величия; солнца и огня. С образом Л. связывают также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Особой семантикой обладает образ львицы: она — и символ материнства, и атрибут многих богинь-матерей, и воплощение сладострастия. Л. связан со многими женскими божествами: Артемидой Эфесской, Кибелой, Гекатой, Аталантой, Реей, Oпe и др.
ЛЕВ, в мифологиях и фольклоре многих народов Африки, Западной, Южной и Восточной Азии символ высшей божественной силы, мощи, власти и величия; солнца и огня. С образом Л. связывают также ум, благородство, великодушие, доблесть, справедливость, гордость, триумф, надменность, бдительность, храбрость. Особой семантикой обладает образ львицы: она — и символ материнства, и атрибут многих богинь-матерей, и воплощение сладострастия. Л. связан со многими женскими божествами: Артемидой Эфесской, Кибелой, Гекатой, Аталантой, Реей, Oпe и др. В древних культурных традициях Л. нередко называют царя, героя и просто мифологизированный персонаж. В Ветхом завете с Л. сравниваются Иуда, Дан, Саул, Ионафан, Даниил и др., а сам Л. характеризуется как «силач между зверями» (Притч. 30, 30). В некоторых древних языках Ближнего Востока (в частности, в хаттском) роль Л. как символа мощи божественного героя или царя отражается в обозначении Л. и героя-царя одним словом. Для изобразительного искусства и архитектуры этих культурных традиций характерно использование Л. в качестве одного из основных символов, нередко соотнесённых с одной из четырёх сторон света. Л. выступает и как страж (львиные статуи, охраняющие двери древнеегипетских усыпальниц и дворцов, а также ассирийских и вавилонских храмов; Л. на западных воротах столицы Хеттского царства, аналогичные символам Л. на позднейших вратах 1-го тыс. до н. э. в Малатье и на львиных вратах в Микенах; львиные скульптуры и изображения на троне в Индии; каменные изваяния Л. у входа в буддийские храмы в Китае и т. п.).
В ряде культурных традиций Африки, Западной и Южной Азии со Л. связывается рождение и смерть культурного героя или царя. Согласно индийским поверьям, отражённым в «Маха-вансе», царь (и мудрец) имел львиную челюсть или верхнюю часть тела льва. В буддизме Л. выступает как воплощённая храбрость, благородство и постоянство. Он приносит удачу и счастье; с ним связаны Авалокитешвара, Майтрея (почитался его трон — «львиное сиденье»), Манджушри, Вайроча-на. Многократно воплощался в образе Л. Будда. В Китае Л. считался одним из четырёх животных, олицетворявших идею власти.
 В Африке образ Л. часто воспринимается как воплощение умершего предка, сверхъестественного духа-патрона, тотема. Широко распространены табуистические обозначения Л.: «господин» в Анголе, «брат» у готтентотов и т. п. Во многих районах Африки считается, что деревенские колдуны могут становиться Л.; согласно представлениям бушменов Л. может превращаться в человека. Основатель одного из кланов у динка был близнецом, братом Л. (Л. же считался у них и тотемным предком). У центральной группы племён луо известен миф о первом (главном) вожде Атико; его жена принесла ему двойню львят, которые охотились на зверей, и Атико мог снабжать мясом даже людей окрестных селений. В суданской легенде львица воспитывает царя вместе со львёнком. Подобные легенды объясняют происхождение «львиных» династий у мали и других африканских народов. У свази царь, именуемый Л. (нгвеньяма), считается близнецом царицы-матери, таким образом в мифопоэтическом контексте их можно рассматривать как близнечную пару, один из членов которой (а в более раннем варианте, по-видимому, оба) — Л.
В Африке образ Л. часто воспринимается как воплощение умершего предка, сверхъестественного духа-патрона, тотема. Широко распространены табуистические обозначения Л.: «господин» в Анголе, «брат» у готтентотов и т. п. Во многих районах Африки считается, что деревенские колдуны могут становиться Л.; согласно представлениям бушменов Л. может превращаться в человека. Основатель одного из кланов у динка был близнецом, братом Л. (Л. же считался у них и тотемным предком). У центральной группы племён луо известен миф о первом (главном) вожде Атико; его жена принесла ему двойню львят, которые охотились на зверей, и Атико мог снабжать мясом даже людей окрестных селений. В суданской легенде львица воспитывает царя вместе со львёнком. Подобные легенды объясняют происхождение «львиных» династий у мали и других африканских народов. У свази царь, именуемый Л. (нгвеньяма), считается близнецом царицы-матери, таким образом в мифопоэтическом контексте их можно рассматривать как близнечную пару, один из членов которой (а в более раннем варианте, по-видимому, оба) — Л. В египетской мифологии известно божество, представляемое как пара Л., каждый из которых, в свою очередь, тождествен Тефнут, до своего возвращения в Египет жившей в образе кровожадного Л. в нубийской пустыне, и Шу. Вместе с тем в позднейших египетских текстах со Л. отождествлялся и Осирис. Некоторые египетские богини (в частности, Тефнут) в состоянии гнева превращались во Л. (ср. библейский образ царского гнева как львиного рёва). С образом Л. были связаны Ра, Гор и др. В Древнем Египте Л. был эмблемой двух противопоставленных друг другу образов — Вчера и Сегодня; южный ветер иногда изображался в виде четырёхголового (обычно крылатого) Л.
 Мифологические существа с головой Л. и телом человека характерны для обширного ареала к югу от Египта [бог Апедемак в мифологии Куша (Древняя Нубия)] и в Передней Азии до её северных районов; ср. также крылатых Л.-грифонов на вавилонских стелах, иногда с головой орла. Для значительной области восточного Средиземноморья, испытавшей воздействие египетской мифологии и искусства, характерен образ существа с головой и верхней частью туловища женщины и телом Л.-сфинкса (начиная с древнейших египетских изваяний сфинксов и вплоть до наиболее ранних малоазиатских образцов рубежа 3-го и 2-го тыс. и последующих изображений из Сирии и центральной части Хеттского царства). Нередко в архитектурных комплексах и символике печатей Л. и сфинкс объединяются как элементы единой композиции; такое же соотношение этих символов (в частности, в связи с царём) можно реконструировать (по микенским и другим данным) для наиболее раннего греческого искусства и мифологии. Для юго-востока Передней Азии характерен символ крылатого Л., распространяющийся из Месопотамии в сопредельные области на восток (в Иран) и на северо-запад (в Сирию и Малую Азию). Мотив борьбы со Л. Гильгамеша отражён и на месопотамских печатях (ср. также подвиг Геракла, победившего немей-ского Л.). Л. выступает и как воплощение злого и жестокого духа, демонических сил хаоса (таковы, например, шумерские и вавилонские львинообразные демоны Угаллу и Уридимму; ср. превращение Л. бога Нергала в символ войны). Позже он начинает олицетворять созерцание, одиночество, отшельничество; Л. становится эмблемой Иисуса Христа (ср. также Л. как эмблему ветхозаветного Иуды, из рода которого происходит Иисус Христос) и многих святых (Марка, Иеронима, Игнатия, Адриана. Евфимии и др.).
Мифологические существа с головой Л. и телом человека характерны для обширного ареала к югу от Египта [бог Апедемак в мифологии Куша (Древняя Нубия)] и в Передней Азии до её северных районов; ср. также крылатых Л.-грифонов на вавилонских стелах, иногда с головой орла. Для значительной области восточного Средиземноморья, испытавшей воздействие египетской мифологии и искусства, характерен образ существа с головой и верхней частью туловища женщины и телом Л.-сфинкса (начиная с древнейших египетских изваяний сфинксов и вплоть до наиболее ранних малоазиатских образцов рубежа 3-го и 2-го тыс. и последующих изображений из Сирии и центральной части Хеттского царства). Нередко в архитектурных комплексах и символике печатей Л. и сфинкс объединяются как элементы единой композиции; такое же соотношение этих символов (в частности, в связи с царём) можно реконструировать (по микенским и другим данным) для наиболее раннего греческого искусства и мифологии. Для юго-востока Передней Азии характерен символ крылатого Л., распространяющийся из Месопотамии в сопредельные области на восток (в Иран) и на северо-запад (в Сирию и Малую Азию). Мотив борьбы со Л. Гильгамеша отражён и на месопотамских печатях (ср. также подвиг Геракла, победившего немей-ского Л.). Л. выступает и как воплощение злого и жестокого духа, демонических сил хаоса (таковы, например, шумерские и вавилонские львинообразные демоны Угаллу и Уридимму; ср. превращение Л. бога Нергала в символ войны). Позже он начинает олицетворять созерцание, одиночество, отшельничество; Л. становится эмблемой Иисуса Христа (ср. также Л. как эмблему ветхозаветного Иуды, из рода которого происходит Иисус Христос) и многих святых (Марка, Иеронима, Игнатия, Адриана. Евфимии и др.). Мифологический символ Л. и гибридного существа с головой или туловищем Л. присутствует в фольклоре, литературе, искусстве, геральдике, эмблематике значительного числа народов. В геральдических системах Л. символизирует стойкость, твёрдость, спокойствие, благоразумие. Особенно характерны сюжеты, связанные со Л. в качестве «царя зверей», в сказочном фольклоре и животном эпосе и его ответвлениях. Для этих жанров, начиная с самых типологически древних их образцов (сказки о животных у мосси и других народов Африки), характерна карнавальная инверсия отношений между царём зверей — Л. (у мосси «Uegonaba», «царь леса», эвфемизм вместо «Djigimde», «Лев») и одним из наиболее слабых зверей (у мосси заяц), постоянно обманывающим Л. Лев, как и слон, выступает как объект насмешек, издевательств, сатирических выпадов (особенно в текстах трикстерского типа). В то же время образ Л. в фольклоре не исчерпывается его «сниженной» и осмеиваемой ипостасью. Более широко известны мотивы противоположного характера. Прежде всего Л.— царь зверей (как в чисто фольклорных мифопоэтических источниках, так и в буддийских «Джатаках», европейских баснях, анекдотах, фаблио, сказках), не только превосходящий всех силой и смелостью владыка, но и мудрый, великодушный, справедливый покровитель всех животных и даже людей; ср., например, арабские истории о Л., отпускающем свою жертву; многочисленные сказки, легенды и былички о Л., который спасает и помогает человеку, спасает девицу от насилия, выводит царя из леса. В «Романе о Лисе» Л. именуется «Царём Нобелем» (т. е. благородным). В одной из европейских версий мотива Л. поровну делит добычу между собой, вором и путешественником, хотя более известна эзоповская версия (басня «Львиная доля»), когда справедливость оказывается на стороне осла; существуют рассказы о том, как Л. почитали младенца Иисуса, и т. п. Широко распространён сюжет о Л., разбуженном мышью и благородно отпустившем её, за что впоследствии мышь помогала ему, когда он оказался в беде.
Ряд фольклорных и псевдонаучных схоластических текстов (в средние века) посвящен мотиву Л., который боится петуха (особенно кричащего); Прокл (5 в.), напротив, считал, что поведение Л. свидетельствует о его почтении к петуху, который, как и сам Л., символизирует солнце. В народной медицине, магии колдовства Л.— символ здоровья, дух жизни. Значительное распространение получили талисманы, связанные с Л. (геммы, медали и т. п.).
Лит.: Harlez С. Shen-Sien-Shu. Le livre des esprits et des immortels: essai de mythologie chinoise, Brux., 1893, p. 464-65; D о г ё Н., Researches into Chinese superstitions, v. 5, Shanghai, 1918, p. 713; Williams С A. S.. Encyclopedia of Chinese symbolism and art motives, N. Y.. 1960. p. 57 — 58, 177—98, 251—93; Beidelmatt Т. O., Swazi royal ritual, «Africa». 1966, v. 36, №4; Crazzolara J. P., The lwoo, v. 2, Verona, 1953; Erzahlungen aus dem West-Sudan, Jena, 1922 (Atlantis, Volks-marchen und Volksdiehtungen Afrikas, Bd 8); Funk and Wagnalls standard dictionary of folklore, mythology and legend, N. Y., [1972], p. 626—27; Hocart A.M., Kingship, L., 1927; .lobes G., Dictionary of mythology, folklore and symbols, pt 2, N. Y„ 1962, p. 999—1001; Paulme D., Une legende africaine du conque-rant, «L'homme». 1966. v. 6, № 3.
В. В. Иванов. В. Н. Топоров.
Л.— одно из излюбленных животных христианского «символического зверинца». Уже на раннехристианских саркофагах изображения Л. воплощают идею грядущего воскресения. Образ Л., распространённый в пластике романских церквей (ср. также каменное узорочье владимиро-суздальских храмов), понимается как бдительный страж святыни (ср. Исайя 21, 8, а также предание из «Бестиария» и «Физиолога» о том, что Л. спит с открытыми глазами).
В то же время Л. может воплощать идею зла и смерти (ср. Пс. 21, 14 и 22) и именно в этом значении (помимо чисто фабульного) входит в изображения пророка Даниила в львином логове, единоборства Самсона или Давида со Л. (нередко основанные на античной иконографии Геракла), а также в изображения персонификации силы. Вплоть до 17 в. распространены также изображения Л. в качестве атрибута гордыни, гнева, холерического темперамента, Африки и неведомой земли вообще. В искусстве нового и новейшего времени Л. иногда трактуются как воплощение стихийного буйства природы («львиные охоты» П. Рубенса), но чаще — в традиционном, «апотропеическом» значении («стерегущие Л.» — в монументально-декоративной пластике).
Лит.: Dp Wit. С., Le role et te sens du lion dans l'Egypte ancienne, Leiden, 1951; Zips M., Zur Lowensymbolik, в сб.: Festschrift fur O. Holler..., W., 1968, S. 807; Quacquarelli A., Tl leone с il drago neila simbolica dell'eta patristica, Bari. 1975.
M. H. Соколов.